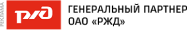Осенью 1852 года, 170 лет назад, железные дороги Российской империи посетила с дружеским визитом делегация английских инженеров-железнодорожников. Во время поездки они не только обменивались опытом с российскими коллегами, но и осмотрели и составили описание всех существовавших на тот момент железных дорог России (и одной строившейся). Это был первый официальный визит иностранных специалистов на российские железные дороги. «Гудок» рассказывает об этой поездке, опираясь на редкие исторические источники.
Английские железнодорожники 170 лет назад впервые приехали в Россию обменяться опытом
Английская делегация во главе с инженером Гари Уильямсом прибыла в Россию в сентябре 1852 года, чтобы успеть осмотреть железные дороги и профильные заводы до зимы. К сожалению, до конца неизвестно, кому принадлежала инициатива поездки, но с российской стороны её согласовывал главноуправляющий путями сообщения Пётр Клейнмихель.
В сентябре английские инженеры изучали железнодорожное полотно, уделяя особое внимание «русской колее», и наблюдали за ходовыми испытаниями подвижного состава, а в следующем месяце принимали активное участие в заседаниях инженерного комитета Главного управления путей сообщения. В своём отчёте они были единогласны в высокой оценке достижений российских железнодорожников.
Хотя железнодорожный транспорт пришёл в Россию с существенным опозданием (примерно на 20 лет), но с 1841 по 1852 год были сооружены две железные дороги, начала строиться третья – Петербурго-Варшавская, технически особенно сложная. Ускорялись не только темпы прокладывания новых путей, увеличивалась и их длина, так что, по прогнозам иностранных специалистов, Россия должна была догнать Англию примерно через 10 лет (в действительности на это ушло 15 лет, но с тех пор единственным конкурентом Российской империи в длине железных дорог были только США).
В политике железнодорожного строительства в России англичан удивляло многое. Прежде всего руководящая роль государства в создании нового вида транспорта. Любопытно, что при этом высокие гости отмечали как достоинства, так и недостатки подобного подхода: «Очевидно, что государство может использовать гораздо больше ресурсов, чем частные лица и предприниматели. Это касается в первую очередь практически даровой рабочей силы... Однако трудно не увидеть, что государственный контроль будет со временем приводить ко всё большему поглощению частных инициатив, связыванию их по рукам и ногам. Кажется, что в дальнейшем это чревато потерей интереса частных лиц к железнодорожному делу… Не говоря уже о том, что в целом государство работает гораздо медленнее, чем частные подрядчики». В одной этой фразе ярко проявилась разница в отношении к железным дорогам. С одной стороны, в России их ещё совсем не рассматривали как решающую логистическую силу в стратегических интересах, с другой – они и правда являлись не только новым и важнейшим средством сообщения, но и способом со временем связать воедино огромную территорию империи. Для западных же теоретиков железнодорожного дела было очевидно, что этот вид транспорта может в первую очередь служить средством для получения высокой прибыли.
Крайне благоприятное впечатление произвела на иностранцев военная подготовка большинства российских инженеров. В связи с этим они отмечали, в частности, их гораздо более высокую исполнительность и строгий контроль за сооружением железных дорог.
Что же произвело на иностранцев неблагоприятное впечатление, что у них вызвало критику? Прежде всего низкая компетентность и непрофессионализм рядового состава, который, собственно, и укладывал железнодорожное полотно. Дело в том, что для этой цели в России использовались в основном простые солдаты, в то время как в Англии речь шла о наёмных рабочих, несравненно лучше подготовленных.
Отмечали англичане и технологическое несовершенство российского железнодорожного транспорта. В Российской империи отсутствовали профильные металлургические и железоделательные заводы, что приводило к высокому проценту брака. Так, по неполным данным, более половины всех чрезвычайных происшествий и аварий было связано именно с технологической некачественностью железнодорожных материалов. В общем, в течение 10 лет пришлось заново переложить или отремонтировать в среднем около одной пятой железнодорожного полотна. Следует отметить, что эти данные никогда не были закрытыми, однако по понятным причинам лишний раз они не разглашались.
Существеннее всего, впрочем, было отставание в подвижном составе. Россия сама производила и паровозы, и вагоны, но, во-первых, в недостаточном количестве, а во-вторых, по лицензии, что неизбежно сказывалось на их качестве. Так, немалую трудность доставляла адаптация колёсной базы паровозов под русскую колею, более широкую, чем западная. Нехватка паровозов приводила к их усиленной эксплуатации, а следовательно, и к преждевременному износу, поломкам и даже выходу из строя. Английские инженеры советовали коллегам как можно быстрее разработать и начать выпуск собственного подвижного состава, без оглядки на западных партнёров. Если использовать модное ныне слово, на полное импортозамещение локомотивного парка ушло без малого 20 лет, однако к началу 1880-х годов российские паровозы были в числе лучших в мире.
Познакомились английские инженеры и с планами и перспективными проектами развития российских железных дорог. Здесь они вновь были приятно удивлены мастерством инженеров, не боявшихся, к примеру, самых трудных вызовов в области строительства мостов. Следует отметить, что в этой сфере за российскими специалистами и правда было решающее преимущество в мире – по крайней мере до начала тех же 70-х годов, когда активное строительство мостов началось в США.
Также, несомненно, на иностранных коллег произвело сильное впечатление планирование железнодорожной сети, согласовывавшееся с Военным министерством. Надо сказать, что в принципиальном подходе к стратегическим вопросам российские железнодорожники опять-таки опередили европейских инженеров – другое дело, что к началу сурового испытания Крымской войной всё ещё не было уложено ни одного километра железнодорожного полотна на критически важном южном направлении.
Однако, разумеется, между английскими и российскими инженерами было множество точек соприкосновения. В частности, не вызвало сомнения, что будущее и в пассажирском, и в грузовом сухопутном транспорте принадлежит железным дорогам. Более того, общим было и представление о том, что железные дороги оказывают огромное влияние и на социальные отношения. При этом очевидно, что для Российской империи эта их составляющая была гораздо важнее, чем для стран Западной Европы.
Также одинаково определялась и экономическая ценность железных дорог: всерьёз рассматривались предположения о том, что железные дороги со временем будут способствовать развитию целых регионов, возможно, изменят и привычное соотношение в торгово-экономическом балансе между разными частями государства. Визит английской делегации был первым событием подобного рода – и далеко не последним. В знак признательности английские инженеры передали в дар российским несколько десятков масштабных моделей паровозов и вагонов, схемы и чертежи, а также более 500 редких и ценных книг о железных дорогах.
Владимир Максаков
Ещё больше интересных новостей в нашем телеграм-канале.
Все наши публикации читайте на канале «Гудка» в «Яндекс Дзене».